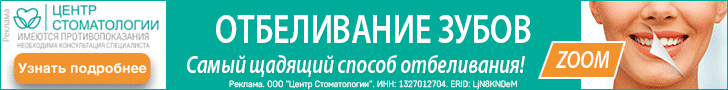19 ноября исполнилось 70 лет с начала советского контрнаступления под Сталинградом, внесшего коренной перелом в ход не только кровопролитного сражения на Волге, но и всей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кольцо окружения, в которое попала немецкая 6-я армия (под командованием Ф. Паулюса), замкнулось 23 ноября в районе г. Калач-на-Дону.
Образованная вермахтом группа армий «Дон» (Э. фон Манштейн) в декабре предприняла попытку деблокады окруженных в городе дивизий, но, столкнувшись с переброшенной из резерва Ставки Верховного Главнокомандования 2-й гвардейской армией Р.И. Малиновского, потерпела поражение. 10 января 1943 г. началась операция «Кольцо», преследовавшая цель расчленить и последовательно уничтожить 6-ю армию противника. К 31 января была ликвидирована южная группа во главе с фельдмаршалом Паулюсом, а 2 февраля капитулировала северная группировка генерал-полковника Штрекера. Так завершилась не имевшая аналогов в мировой истории и растянувшаяся почти на 7 месяцев грандиозная Сталинградская битва. За этот период в ней с обеих сторон приняло участие более 2 миллионов солдат и офицеров. Общие людские потери Красной Армии составили 644 тыс. чел., Германии и ее союзников – более 800 тыс. чел.
Историческое значение победы в Сталинградской битве невозможно переоценить. На берегах Волги враг получил колоссальный урон, от которого не смог оправиться до самого конца войны. Красная Армия прочно захватила стратегическую инициативу и перешла от тактики изматывания противника к проведению широкомасштабных наступательных операций, главным итогом которых стала наша великая Победа.
В нашем городе живет несколько участников Сталинградской битвы. Им всем уже далеко за 80, кому-то – все 90. Грустно, что мы о них практически ничего не знаем. Один из них – Василий Павлович Иванов – живет совсем один (жена умерла 10 лет назад) в типовой «двушке» на Светотехстрое. Из всех «богатств» – только старенькие телевизор и магнитола, пиджак с наградами, да несколько тетрадок с воспоминаниями и стихотворными опусами. Как это ни печально, но до сих пор не одно печатное издание в Саранске не заинтересовалось его судьбой, хотя наш профессиональный и человеческий долг как раз и состоит в том, чтобы дойти до каждого, найти нужные слова, дать высказаться, может быть, на прощание. Пока еще есть возможность…
Иванов Василий ПавловичРодился 29 апреля 1924 г. в селе Новые Сосны Клявлинского района Самарской губернии (ныне – Самарской области). Призван 22 декабря 1942 г. Клявлинским РВК Самарской области.Участие в боевых действиях: декабрь 1942 г. – март 1943 г. – под Сталинградом в составе Юго-Западного фронта, рядовой 265 гв. сп 98 гв. сд, наводчик 120-мм миномета; с 10 апреля 1943 г. по 15 августа 1944 г. – в составе IV Украинского фронта в 260 гв. сп 86 гв. сд.; с 9 февраля по 9 мая 1945 г. в составе III Украинского фронта в должности курсанта.
Семья
— Я родился в 1924 году в селе Новые Сосны Клявлинского района. Родители мои были крестьяне. Отец – Павел Данилович Иванов – в молодости батрачил на богатого соседа за 3 рубля в год. Когда началось колхозное движение, он одним из первых вступил в колхоз, был бригадиром колхозной бригады. Отец до 23 лет был неграмотным. Читать и писать научился в армии. Участвовал в Первой империалистической войне. Воевал в Польше, был унтер-офицером, потом старшим унтер-офицером, командовал взводом. Был очень уважаемым человеком в нашем селе.
Мать – Анна Ефимовна – была человеком несчастной судьбы, рано потеряла здоровье (во время молотьбы снопов на току отморозила ноги) и всю свою недолгую жизнь мучилась с ними.
В семье было четверо детей. Старший брат Иван родился в 1911 г. В армии служил где-то в Забайкалье, в кавалерийском полку. Прошел всю Великую Отечественную и потерял там часть ноги. Женился, родил 7 детей. Чтобы прокормить такое большое семейство, завербовался на о. Сахалин, где и погиб в стычке с местными криминальными элементами. Было ему всего 38 лет.
Я был вторым ребенком в семье. После Ивана у матери было еще несколько детей, но они довольно быстро все поумирали. Я, видимо, оказался самым живучим. После меня родились еще две сестренки. Одна из них жива, сейчас живет в родительском доме в Новых Соснах. А я как покинул его в 18 лет, так туда больше и не вернулся.
Поскребыши
— После 9-го класса школы, когда уже шла война, я работал вместе со всеми на сельхозработах. Ни мужиков, ни лошадей в селе не было – всех забрали на фронт. Время было тяжелое, горькое от слез. Немец наступал, и почтальон каждую неделю приносил похоронки. Гитлер рвался к Волге, стараясь разорвать нашу страну пополам. В декабре 1942-го подошла моя очередь идти в армию. Собирали последних, из нашего района «наскребли» всего 18 человек. Посадили в проходящий товарный состав с единственным пассажирским вагоном, забитым до верха такими же новобранцами. Привезли в Саратов и выгрузили на вокзале. Офицер, сопровождавший нас, на ночь куда-то отошел, а мы разложили наши мешки на полу и повалились спать. Когда проснулись – впору было заплакать. Все порвано, разрезано. У кого, что было ценного, все стащила местная шпана. Мы, конечно, к милиционеру, а он глаза в небо: ничего, мол, не знаю. Война, что вы хотите! А мне мама собрала в дорогу пирогов домашних, два здоровых куска сала, вязаные носки и варежки теплые. Все украли!
Утром командир нас собрал и отвез в город Пугачев. Попали мы в запасную стрелковую дивизию, где готовили резервы для Красной Армии. Жили за городом, в землянках, спали на трехэтажных нарах. Кто был поумней, забирался повыше, где потеплее, других – по 1-2 – каждое утро выносили вперед ногами. Ребята простужались, болели. Лечения, как такового, не было. Кормили тоже, чем придется. Каждое утро после построения выводили на занятия. Вся «теория» у нас была на улице, под открытым небом. А какие зимы тогда были, не приведи Господь! В общем, когда у нас еще пару парней вытащили окоченевших, мы начали бузить. «Хватит, – кричим, – нас голодом морить. Хотим на передовую, лучше уж так умереть. Там хотя бы знаешь, за что».
Где-то в конце декабря нас собрали в деревне на берегу Иргиза, посадили в эшелон и без остановок погнали на юг, в сторону Сталинграда, в расположение командующего Юго-Западным фронтом. Пока мы ехали, немецкие штурмовики – откуда только пронюхали, гады? – разбомбили и нас, и станцию, где мы загрузились, и станцию, на которую должны были приехать. Мы, 2200 человек, оказались в чистом поле, без еды и питья. А на дворе-то декабрь, кругом сугробы. В первое время мы бегали по соседним деревням, но там самим есть было нечего. Были, правда, кое-где убитые лошади, и некоторые жарили их гнилое мясо на огне, но я брезговал.
И так пять дней. На шестой день многие, в том числе и я, слегли. Даже повернуться на бок сил не было. Мы были слабые и бледные, как смерть. Никто не разговаривал, не ругался, мы просто тихо умирали. Нас нашли, прислали хлеба, консервов. Опять же, те, кто был поумнее, не стал объедаться сразу, но еще 25 человек с заворотом кишок мы тогда потеряли.
Фронтовые будни
— Слегка оклемавшись, снова погрузились в вагоны и отправились на передовую. Меня, как минометчика, определили в минометную батарею 265-й гвардейского стрелкового полка 98-й (впоследствии – 86-й Краснознаменной Николаевской – прим. авт.) гвардейской стрелковой дивизии. Вот так и началась моя служба.
Первый день на фронте врезался в память на всю жизнь. Помню, над нами пролетела «рама», это такой немецкий самолет-разведчик. Старые солдаты говорили: «Ну, все, ребята, через 10-15 минут нас раздолбают!» И точно, через 10 минут налетели немецкие «юнкерсы», «фоккеры», и земля стала ходить ходуном. Я выжил, другим повезло меньше.
Всю войну прошел наводчиком 120-миллиметрового миномета. А что это такое? В собранном виде полковой миномет ПМ-120 весит около 300 кг. Да еще каждая мина по 16 кг. На лошадях нас возили только по утрам, на позиции. Миномет – не пушка, колес нет. Нужно постоянно менять позиции, так как немцы тоже воевать умели. Если успеешь дать пару выстрелов, считай, что тебя уже вычислили. Передвигать миномет с места на место, разбирать, собирать, а в расчете всего 3 человека. Иногда мы оставались вообще вдвоем, если третьего ранило. А «фрицы» нас очень не любили, и, наверное, было за что. На Берлин!
— Мы держали в окружении 6-ю армию Паулюса, и в наши задачи входило не допустить деблокады армии со стороны прорывающихся частей Манштейна. Со своей задачей мы справились, и не только отбили их натиск, но и уже в январе 43-го погнали обратно на запад. Сходу взяли Ростов, освободили Ростовскую область и часть Донбасса с городом Шахты. После Сталинграда немцы изменили тактику и стали повсюду создавать мощные оборонительные сооружения. Иногда на то, чтобы их «вскрыть», уходило несколько недель или даже месяцев, как на речке Миус, где мы простояли до конца августа 43-го. Но мы тогда уже воевали лучше, и враг был обречен. В 1944-м мы освобождали юг Украины и Молдавию, и вышли за пределы государственной границы. После Ясско-Кишиневской операции у немцев не осталось сил, чтобы сопротивляться. Мы быстро преодолели Румынию, Балканские горы, освободили Болгарию и Югославию. В Венгрии завязались последние тяжелые бои этой войны, но я в это время был уже курсантом военного училища, готовился продолжить службу в армии после войны. Наши курсы находились в Братиславе, где я и встретил весть о нашей Победе. Когда о ней сообщило Словацкое радио, помню, мы взяли все, что могло стрелять, и расстреляли в небо все патроны. Радости-то было, что ты! Словами это чувство не передать.
Я и сейчас – с осколком в голове
— На фронте был дважды ранен. Раны были осколочные. Первый осколок попал в правую ногу, второй, задев глаз, в голову. Тот, второй и сейчас в своей голове ношу. Врач в санбате, который меня оперировал, сказал: «Жить тебе, Иванов, придется с осколком. Один глаз ты потерял, а если начну его вытаскивать, есть риск, что ты вообще ослепнешь». Ну что делать? А другой осколок, который в ноге, я еще лет 7 носил, только после войны вытащили. С позиции я не уходил. Лечили и резали меня в медсанбате. Четыре раза был тяжело контужен, много раз – легко. На войне – как на войне. Обстрелы, бомбардировки почти каждый день, и никуда от них не деться. Слава Богу, жив остался.
После войны
— После войны оставался в армии, прослужил еще 20 лет. Прослужил бы и дольше, но последнее место – Ханты-Мансийский национальный округ – подорвало здоровье, да и запала того юношеского уже не осталось. Надо было поднимать на ноги двоих сыновей. После демобилизации в 1965 году приехал в Саранск, где устроился на завод железобетонных конструкций, на котором проработал 14 лет. В 1979 г. перевелся в Министерство жилищно-коммунального хозяйства МАССР, где еще 10 лет трудился старшим инженером в отделе технического надзора. С 1989 г. — на заслуженном отдыхе.
Сижу почти безвылазно дома. В родном селе не был лет десять – слишком далеко, здоровье уже не позволяет. Жена Валентина Абрамовна и старший сын уже покинули этот мир. Единственная радость, которая осталась в жизни, это внуки и правнуки. Ради них и живу.
Александр Пьянзин.