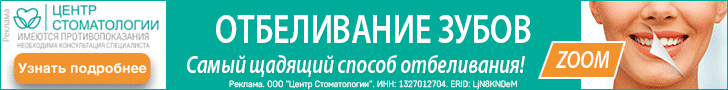Этот скромный дом на берегу речки Пишляйки хранит память о нескольких поколениях семьи Кузнецовых. Сегодня здесь никто не живет, и, как любое жилище с потухнувшим очагом, мокшень куд (мокшанский дом — рус.) выглядит уныло и сиротливо. Но только не для той, которая всё детство бегала в дедушкин дом, считая его самым притягательным местом на земле, загадочным и прекрасным.
Совсем юной Татьяна Китаева, с рождения жившая в Саранске, переехала на мамину родину, в село Мордовская Пишля Рузаевского района — до того дорог ей здешний воздух, которым дышится так легко, как нигде на свете, до того любит мордовскую речь и родные напевы, которые можно услышать только здесь, до того нравятся люди, которые живут в селе. Вышла замуж за местного парня, и теперь здесь навсегда — ее дом.
Татьяна работает в сельском Доме культуры, и это тот случай, когда профессия полностью соответствует потребностям души. Вместе с мужем они обустроили крепкий, уютный дом. Но нет-нет, да снова Татьяна дойдет до той простенькой четырехстенки, которая в детстве была радостным убежищем для нее и братьев-сестер.
«Лишь бы он стоял! Лишь бы дети и внуки помнили…», — частенько, словно молитву, повторяет про себя Татьяна.
Из хутора – в село
В Мордовской Пишле этот дом стоит с 20-х годов прошлого века. Но на самом деле он старше. В 1907 году, когда столыпинская аграрная реформа позволила крестьянам выходить из сельской общины и жить отдельно от нее, Василий Захарович Кузнецов обустроился в хуторе на берегу реки Сютькс. Говорят, в тот хутор даже заезжал генерал-губернатор Пензенской губернии, когда отправился с инспекторской поездкой в Шишкеево, а это в те времена был город. Потом грянула Октябрьская революция, и хутор перенесли в село. Дом Василия Захаровича тоже разобрали и перевезли в Мордовскую Пишлю.
Полноправным хозяином здесь стал сын Василия Захаровича, Владимир — это прадед Татьяны по маминой линий. Его жена Татьяна Григорьевна, хоть и была парализована на одну сторону — рука и нога бездействовали — родила 12 детей. В живых осталось, правда, лишь пять дочерей, остальные умерли в младенческом возрасте.
Дети появлялись на свет в этой избе. Никакого медперсонала, в помощь — только бабка-повитуха. Прабабушка Татьяна к тому же прекрасно справлялась со всеми делами по хозяйству: и варила, и пекла, и стирала, и убиралась в доме.
Нюрям, иконы, самовар
Постепенно дочери одна за другой выпорхнули из родительского гнезда, создав свои семьи, построив свои дома. Но пока были живы родители, мокшень куд оставался местом притяжения детей и внуков. Владимир Васильевич, участник Первой мировой войны, скончался в 1973 году, а Татьяна Григорьевна ушла чуть раньше, в декабре 1972-го. После их смерти в пустующий дом заселяли приезжих девушек, направленных в совхоз имени А.П.Байкузова на работу. А еще во время Великой Отечественной войны в доме жили офицеры Красной армии. В селе располагалось военное подразделение резерва. Солдаты жили в лесу, а офицеров распределяли в домах местных жителей.
Бывало, в этой скромной избе размещалось до 15 человек. Домишко действительно небольшой, но места хватало всем.
— Изба представляет собой одну большую комнату, в которой были и русская печь, и голландка, которая отапливалась дровами. А к русской печке с помощью особой трубы был прикреплен огромный самовар, который грелся с помощью лучин, — рассказывает Татьяна Китаева. — По воспоминаниям моей мамы, внучки Владимира Васильевича и Татьяны Григорьевны, к потолку была подвешена зыбка – нюрям для маленьких детей. Кровати были отгорожены занавесочками. Был там и большой обеденный стол кустарного производства, и самодельные лавки. Легкая одежда хранилась в сундуках, а более крупные вещи вешали на стены. В красном углу висели иконы. Для освещения до 1964 года пользовались керосиновыми лампами. Особой церемонией становилось чаепитие. Дедушка разливал чай по граненым стаканам, специальными щипцами раскалывал большой кусок комкового сахара, и каждому доставался сладкий кусочек. Надо сказать, что все мы: дети, внуки, правнуки, любим чай до невозможности. Наверное, от прадедушки передалось.
Не продавать
Дарья, младшая дочь Кузнецовых, жила в доме через дорогу. Вместе с мужем вырастили там четверых детей. Потом у нее самой появились внуки, у бабушки они всегда получали утешение и заботу, ласковое слово и вкусные гостинцы. Но дедушкин дом напротив манил детвору особой аурой. Внуки и внучки, сельские и приезжавшие к бабушке на каникулы, дружной гурьбой бегали в старый дом. Женя, Сережа, Таня, Наташа и еще одна Таня. Здесь была их «летняя резиденция». Там они хозяйничали по полной, раскладывали свои вещи, разворачивали игры, устраивали бесхитростные детские пирушки. И хоть в доме уже много лет никто не жил, там не было удручающего нежилого запаха. В жаркие летние дни в мокшень куд всегда было свежо.
По весне правнуки Владимира Васильевича Кузнецова обязательно проводили генеральную уборку: белили голландку, мыли окна, вешали чистые занавески. Наводили уют к лету. Но уже много лет этого не делают. Печка не сохранилась. Правда, 20 лет назад внуки отремонтировали крышу и фундамент, заменили сгнившие нижние венцы. Не дают дому пропасть. У всех есть свои дома и квартиры, но эта изба по-прежнему дорога им.
Прадедушка завещал, чтобы дом не продавали, чтобы он не попал к чужим людям. Пусть стоит, сколько отведено ему. А потом — как будет. Однажды в его судьбе уже был большой переезд, другого не надо.