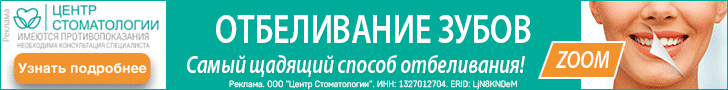«Археология – это наука с лопатой», — признается Ольга Викторовна Зеленцова, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. — Как правило в археологию идут те, кто хоть раз побывал в экспедиции. Экспедиция – это небывалый заряд, бесконечные дискуссии, чувство единства, и конечно, непередаваемая романтика. По наблюдениям, из тридцати студентов, побывавших на раскопках, пятеро идут в науку».
Без экспедиций нет археологии

Сама Ольга Викторовна с детства мечтала разгадать тайны прошлых веков. Часами засиживалась за чтением книг и журналов об истории. Окончила исторический факультет МГУ им. Н.П. Огарева, училась в аспирантуре Научно-исследовательского института языка, истории и экономики при Правительстве МАССР.
Со студенческой скамьи стала изучать исторические памятники, после первого курса побывала в экспедиции. «С того самого раза я просто «заболела» археологией, — сознается исследователь, — когда в руки попадает вещь, которой пользовались наши предки, невозможно передать это соприкосновение с прошлым. Археологи как криминалисты, исследуя памятник по взаиморасположению находок реконструируют события прошлого. Мне повезло, что моим наставником был Виктор Иванович Вихляев, который воспитал много археологов в Мордовии и научил понимать прошлое». В Мордовии была очень сильная археологическая школа, у истоков которой стояли такие крупные ученые как А.П.Смирнов, Г.А.Федоров-Давыдов, в дальнейшем В.Н.Шитов, И. М. Петербургский. В настоящее время в регионе мало археологов. Причина простая – отсутствие экспедиций. Положение пытается исправить НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. У Ольги Викторовны тесная связь с институтом. Недавно в его стенах прошел V научный семинар «Древности поволжских финнов в эпоху Средневековья», проведенный совместно с Институтом археологии РАН. В нем приняли участие ученые из 12 городов нашей страны. На семинаре презентовали книгу «Шокшинский могильник. Материалы раскопок 1983-1993, 1995 гг.». Погребальные памятники поволжских финнов археологи изучают уже более 150 лет. За это время на территории Волго-Окского междуречья исследовано 97 могильников, раскопано около 6 тыс. погребальных комплексов. Пятая часть погребений приходится на Шокшинский могильник, где за пятнадцать лет раскопано более тысячи захоронений. В данном издании опубликованы результаты полевых изысканий экспедиции НИИ гуманитарных наук под руководством археолога Виктора Николаевича Шитова. Книга – дань памяти ученому.
Летопись финно-угорских народов

Археология особенно важна для финно-угорских народов. Известно, что письменность у этих народов возникла не ранее 19 века и благодаря раскопкам ученые узнают культуру, образ жизни, быт людей и реконструируют исторические события. «Применение современных технологий помогают даже из крупицы вытащить информацию, — заявляет Зеленцова, — например, можно исследовать истлевший кусочек ткани и понять шерсть это или шелк, как ткань изготовили, чем красили, как датируется эта находка. Изотопный анализ останков сможет определить откуда был человек, здешний он или пришлый, чем больше питался – растительной или пищей животного происхождения; по волосам можно узнать, чем болел человек, от чего умер». Область научных интересов Ольги Викторовны — археология финно-угорских народов Поволжья. В частности, она изучает костюм эрзи и мокши, а также родственного народа муромы. «Как археолог могу сказать, что костюм этих народов был не только красивый, но и богатый. В убранстве было очень много украшений из металла. В наборе украшений прослеживается преемственность, когда отдельные виды украшений меняясь из века в век присутствуют в уборе мордовской женщины. Например, сюлгамы встречаются в могильниках 3-4 веков и изменяясь, доживают до середины 20 века, что мы можем видеть в этнографических костюмах в музее», — поясняет ученый.
Нередко всплывает вопрос по поводу схожести и различия эрзи и мокши. По поводу этого есть две точки зрения: одни исследователи считают, что эти народы изначально жили на разных территориях. И их культура хоть и была похожа, но всё же отличалась. А другие финно-угроведы считают, что был один народ, который потом разделился. Ранние эрзянские могильники известны на реке Тёша в современной Нижегородской области, а мокшанские на реке Сура в Пензенской области и на Мокше. Ольга Викторовна придерживается второго мнения: «Когда сравниваешь культуру этих народов, изучаешь её досконально, то видно, что это одна культура. На мой взгляд, эрзя и мокша – это один народ, который в силу каких-то причин стал жить в разных местах, в связи с чем в культуре появились различия, но они небольшие, например, в археологии считываются как особенности в расположении отдельных украшений в костюме».
Разорители истории
Ольга Викторовна часто приезжает на родину. Замечает позитивные моменты и радуется всему положительному в жизни региона. Но её как эксперта Министерства культуры РФ по вопросам сохранения археологического наследия, не может не беспокоить то, как разоряются уникальные памятники мордовского народа. «Лет двадцать тому назад появились металлодетекторы и началось бедствие, активное разрушение памятников археологии, — недоумевает Зеленцова, — для «черных копателей» поиски металлических предметов – это увлечение или поиск для продажи. Они не понимают, что растаскивают и разоряют свою историю, стирают информацию о своем прошлом. Горько, когда ученые при раскопках могильников вскрывают могилы, из которых все украдено и разорено. Это надругательство над своими же предками. Разорены Кельгининский, Лячинский, Шалинский, Шокшинский, Морд-Паркинский и многие другие средневековые могильники мордвы на территории Мордовии, опустошены мордовские памятники в Тамбовской и Пензенской областях». Хотя согласно нашей Конституции, мы обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. В законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за разрушение памятников археологии. Однако на деле после набегов копателей ученым остаются грабленые могильники и древние поселения, где нет металла. «И какой исторический вывод мы можем сделать? — возмущается исследователь, — мало того, что невозможно понять к какому времени относится поселение, нельзя достоверно определить, чем занималось население. Информация украдена горе-копателями. А к какому выводу придут наши последователи? Они скажут, что мордва была со слабой культурой и у них были только глиняные горшки». Другая проблема – строительство без археологических работ. Хотя в нашей стране действует закон, по которому любому строительству должны предшествовать археологические разведки. В этом году, например, Волжская экспедиция Института археологии РАН начала спасательные археологические раскопки мордовского селища около с. Веденяпино в Теньгушевском районе. Селище попадает под строительство дороги и археологам надо за лето исследовать участок памятника, который попадает под территорию строительства.

Тревожит ученую и будущее мордовских языков. «Я сама чувствую, как с трудом нахожу родные мне эрзянские слова, — признается она, — живя в Москве, мало общаюсь с сородичами. Но приезжая в Мордовию, с удивлением замечаю, что родственники, даже те, которые живут на селе, не говорят на родном языке. Нам надо помнить, что, теряя язык, теряем народ. Нам надо знать свою культуру, свою историю. Неужели не интересно, почему мы такие, почему отличаемся от марийцев, татар, русских. Что в основе нашего народа. Ведь, не хлебом единым жив человек. Хочется, чтобы люди более ответственно относились и к своему прошлому, и к своему будущему».