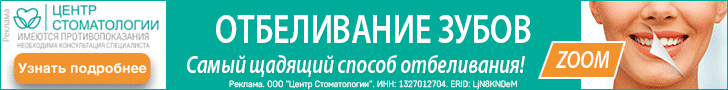В 1937 году, когда и речи не могло быть о декларируемой властями демократии в колхозной жизни, неординарный случай произошел в селе Чукалы Ардатовского района. Там 9 января на общем собрании колхоза «Путь Ильича» единогласно и в полном составе было переизбрано правление колхоза во главе с председателем Николаем Кипайкиным. В новый состав правления не вошел и однофамилец председателя – парторг Кипайкин. Сенсационность произошедшего была в том, что собрание с участием более 500 человек прошло без ведома районных властей.
«Все правильно, но…»
Узнав об этом, в Чукалы поспешили секретарь райкома Кутузов, зам. директора МТС Федоров, зав. парткабинетом райкома Орлов. Они согласились с тем, что колхозники правильно сделали, отстранив от руководства за большие упущения в работе и злоупотребления членов правления колхоза и его председателя. Хотя о безобразиях, что творились в колхозе, посланцы из района давно знали из жалоб колхозников, но мер по ним не принимали. Согласиться-то согласились, но потребовали перевыборов. Якобы из-за нарушений при проведении собрания положений устава сельхозартели.
Рассказав об этом случае в номере от 1 марта 1937 года, газета «Красная Мордовия» сообщила, что и после повторных выборов по всем правилам устава сельхозартели колхозники подтвердили свое решение об избрании председателем коммуниста Девайкина, его заместителем – заведующего хатой-лабораторией Кулькова.
С подачи Лысенко
В газетах давних лет встречаются незнакомые или полузабытые уже названия и понятия. Но я узнал, что представляли собой хаты-лаборатории. В сельском хозяйстве СССР их стали создавать по инициативе академика Трофима Лысенко в 1934 году как доступное специалистам хозяйств местные опытные учреждения, которые помогали оценивать уже известные, а также разрабатывать новые агроприемы для условий данного района или колхоза. Несмотря на последовавшую затем критику Лысенко, хаты-лаборатории сыграли определенную роль в расширении связи науки с сельхозпроизводством. Где к начинанию отнеслись серьезно, там хаты-лаборатории становились центрами сельскохозяйственных новаций, источниками новых знаний о земле, урожаях. Они разрабатывали новые методы увеличения урожая, проводили опыты с применением различных удобрений, способами обработки почвы и так далее.
Хаты-лаборатории действовали вплоть до начала войны, а их сотрудников называли опытниками.
Неизвестно, сколько хат-лабораторий было в Мордовии, но чукальская, которой заведовал Илья Степанович Кульков, судя по той же публикации в газете, была среди лучших.
На земле без своей земли
О непростой жизни этого человека рассказал внук Ильи Степановича Кулькова, бывший директор, гл. научный сотрудник Мордовского НИИ сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук А.М. Гурьянов.
Илья Степанович Кульков, возглавлявший в колхозе полеводческую бригаду, был делегатом 2-го Чрезвычайного съезда Советов Мордовской АССР, на котором в августе 1937 года была принята Конституция Мордовской АССР. Он же в ноябре 1936 года в качестве делегата от Ардатовского района участвовал в работе IV Куйбышевского краевого чрезвычайного съезда Советов, обсудившего проект Конституции СССР.
С трибуны 2-го Чрезвычайного съезда Советов Мордовской АССР Илья Кульков рассказал о своем отце: «Ему досталось «счастье» — пасти свиней. Когда вырос и окреп, пошел работать на барский двор недалеко от нашего села к графу. И там выбился из сил, когда весной во время пахоты и сева барин вывел разъяренного жеребца, который сшиб отца с ног и смял его. После этого отец не мог работать, и барин прогнал его. Мне было тогда 8 лет, и я помню, что отец после этого всегда болел».
У Кульковых, как и у многих в Чукалах, не было своей земли. «Все село пользовалось ревизиями, которые были закреплены еще в 1891 году. Только в 1905 году мы сумели распределить землю по наличию душ. В 1906-1907 гг. по ходатайству деревенского кулачества наши постановления отменили, и мы снова остались без земли. Больше половины земли чукальских крестьян была скуплена по столыпинским правам адвокатом Карповым, который начал сдавать ее в аренду казанским и нижегородским. Нам же даже запретили ходить по этой земле».
Предусмотрительность не подвела
— В октябре 1917 годы мы снова разделили землю и теперь сами строим на ней свое благополучие, — продолжил рассказ Илья Кульков. — В 1937 году земли у нас в колхозе было 794 га. Урожаи пшеницы и ржи тоже радуют: обеспечив колхоз семенами, на трудодень получили по 8 кг зерна и не менее 1 рубля деньгами».
В выступлении на съезде Кульков не обошел вниманием работу в Ардатовском районе хат-лабораторий: «На бумаге они имеются во всех колхозах. Но плохо работают, так как их важность пока не осознали не только сами колхозники, но и руководители колхозов. И по моему адресу, когда стал заведующим хаты-лаборатории, были насмешки и издевательство. Зимой, когда меня послали на учебу в Рузаевку, хата-лаборатория была разбита, так называемые «кастрированные» семена свалены на пол и поедены мышами. Но я предусмотрительно сделал другой запас таких семян, которые весной посеял и получил с них хороший урожай».
Нелегкая досталась доля
Илью Степановича Кулькова, как и всякого деревенского мужика, сама жизнь заставляла быть настойчивым и предусмотрительным. Он родился в 1887 году в селе Чукалы и с малых лет познал цену хлеба. До того, как стать колхозником, работал на железной дороге стрелочником, ремонтировал пути. Решение мужа вступить в колхоз поддержала супруга Евдокия Ивановна. После ее смерти в 1930 году помощницей Ильи Степановича во всем стала новая жена Ефросинья Степановна. Она работала в полеводстве, и о ней сын Павел вспоминал: «Мама на работу уходила очень рано, когда мы еще спали. Работа у нее была тяжелая, возвращалась она с поля домой поздно. Навсегда остался в моей памяти случай, когда я пришел на поле помогать маме складывать снопы. Но, как на зло, захотел есть. Нашел ее еду и съел, оставив маму без обеда и ужина. Она меня за этот нехороший поступок не ругала, даже пожалела, но мне до сих пор стыдно. И когда вспоминаю об этом, слезы появляются на глазах».
Женская доля Ефросиньи Кульковой тоже была нелегкой. В июне 1940 года Илью Степановича Кулькова, с которым у нее родилось трое совместных детей, застала в поле гроза. Илья Степанович укрылся под ивой в овраге, и там молния сразила его наповал. В годы войны Ефросинья Степановна поехала строить Сурский оборонительный рубеж. Там и жила с детьми в частном доме, который топили кизяками. Из еды была одна картошка, из которой вперемешку с липовыми листьями и лебедой пекли и хлеб.
После гибели И.С. Кулькова хата-лаборатория в Чукалах перестала работать.
Достойные наследники
Сельский новатор оставил после себя 9 наследников. Как и отец, все дети стали уважаемыми людьми. Сын Андрей в годы Великой Отечественной войны оборонял Москву, а под Харьковом с пушкой на тракторном прицепе оказался на занятой немцами территории. Поняв это, Андрей, чтобы не достались врагу, спустил трактор, пушку и боеприпасы в глубокий овраг. После плена жил и работал в Ленинградской области. До Берлина дошел с боями сын Сергей. Михаил работал шофером, Григорий – шахтером, Ольга – сельской учительницей, мама А.М. Гурьянова Анна, как и ее сестра Мария, — колхозницами в Чукалах и Низовке. Высшее образование получили сыновья Павел – он кандидат философских наук, преподавал и заведовал кафедрой в вузах Мордовии, и Валентин – работал у себя в селе бригадиром, секретарем парторганизации, председателем сельсовета.
— Я не застал в живых своего дедушку, но по его примеру посвятил себя работе в сельском хозяйстве и аграрной науке, — сказал внук И.С. Кулькова А.М. Гурьянов. – Мой выбор – благодарная память деду за преданное служение крестьянскому делу.
Валентин ПИНЯЕВ.